............................................................................................. «Одиночество. Слава"
........................ Одиночество с…, уединение …
Вторая ночь. Все спят. Завтра на выезд.
День заезда жесть. У Сёмы в три ночи температура поднялась. Голова горячущая. Смерил. Тридцать семь и пять. Сухой кашель. Долго колебался. Оставил дома. Сын заплакал, «Чего?» - говорю. «Ты меня с собой не возьмешь». Уговорил полежать. Пока ходил буксировщики грузили, вернулся переодеться. Он в комнате своей вскочил, ко мне бежит. В глазах готовность и мольба ехать. Бббб. Четыре утра. Положил ладонь на лоб. Жарит. Увёл в спальню, уложил, гладил разговаривал. Вродь понял, что надо дома остаться, отлежаться, поправиться. Гладил по волосам? Шелковистые они. Успокоился. Одеваюсь, слышу ревёт. Снова поговорили, утих. Ребят на уле, наверн, заждались. У самого на сердце «коши скребут». Какая там поездка без сынули, как без руки.
Наташенька по возвращению рассказала, сынуля до шести в голос ревел, потом пришел в спальню, улегся в постель и твёрдо заявил: «Я старшим остался!»

Едем из города. Сам никакой. Никак не мог и подумать, что так к сыну привязался, все мысли о нём. Во, блин, трудно понять, как без него до селе ездил и жил. Чем дальше забираемся в тайгу, уносят наши машины, тем грустнее на душе. Вспомнил, что было тако чувство, когда познал влюбленность и расставание, ничто не радовало, грудь будто давило, и куда не кинешь взгляд, вновь и вновь пожар разливался в сердце. Понимаю? Приказываю уму: «на неделю расстаюсь!», и душе пофиг. Бббб.
Наверн, надо так миру, чтоб понять, что для меня сын значит, и что я для него.
В Луковецком уж Саныч поджидал. Догрузились кирпичом, спасибо ему приогромно. На технологичке, на заднем сидении удалось уж задремать. Слышу, двигатель затих, приподнял голову. Мы ж на отворотке. Машины разворачиваются, тыкаются на стоянку. Нюхают свежий снег, як сноровистые кони. Чисто, бело, по таежному.
За делом поотпустили воспоминания, в предрассветных сумерках снарядили санный поезд,

да в путь тронулись.

Удивляемся, что снега ничуть нет, с четверть, может с две. Ведь в октябре уезжали, по колено лежал, тут нате тебе. Иногда в глинистую мороженную колею так налетишь, буксировщик вздрогнет, как подбитый, подпрыгнет, приостановится. Присноровишься, выправишь рулём его бег, и вновь устремишься в предрассветную даль, всё дальше и дальше уносясь от города, суеты и бесконечных, пожалуй, боль чем наполовину бесполезных и бессмысленных дел.

Ниже и ниже спускается зимник, вродь поднимешься на взгорок и снова спуск подалече предыдущего, як ступенью за ступенью снижаемся к истоку великой таёжной реки Кельды. Мож и не по протяженности и шири своей, по легендарности и величине в душе каждого горожанина иль местного жителя, что прикипели сердцем к сим северным бескрайним лесам, болотам, да огромным бесконечным вырубам, что тянутся одинокими сухими палками, да куцыми ёлками к свет божьему. Была ли тайга то тут?

Да была, сам понимаешь, да очи не верят. И лишь спустившись к каньону Кельды, погрузившись в высоченные раскидистые ели, да космические лиственницы, что в небо впиваются вершинами, понимаешь величие и бесконечность нетронутой тайги. Суходол бежит, вьется меж теснинами.

Любо сердцу, оку, любо буксу скользить, скакать, рассекать первые снеговые курсы. В ельнике тормозим. Колей от авто размешали лесной подстил, врезались мёртвыми рубцами в землю. Да так часто и глубоко, что букс то и дело валится на бок, вздрагивает от удара замерзших глыб. Да, вродь года два назад, спускал с дороги воду, выравнивал путик. Какое там, усе расхлестано в усмерть. «Я проехал, за мной трава не расти». Лозунг «правильного оффроуда», больших колес, и несмысленыша горожанина. Тайга, мол, сама залижет раны, мне ж главное из града вырваться, потрясти яйцами, головушку развеять, думы поуспокоить безумногородские, да оттяпать кусочек поболе в рыбе, в зверье иль ягоде с грибами поболе, иль просто адреналин пожечь и хоть чуток гадости в городе накопленной выжечь. И як домой возвращаться, в городище каменное с пустыми руками? Не прилично, ни поймет никто, спросят, «зачем время свое потратил, ты, что дум-дум, в пустую куда-то рубился, пробивался. А ну, поотдать на стол ограменных зубастых щучин, пузатых налимов, да глухарей танкоподобных. Мы ж пальчиком поковыряем, мож поудивляемся, якой ты хапец правильный, мод носик отвернём, на те нам твоё кушанье. Подумаешь там «оффроуд правильный», дороги не проходимые. Разве, что мешок иль два привезешь, то поймем, что в правильну экспедицион съездил, окупил поездку. Иль фоту привезешь, где машинулю сувою любимую по грудь в трясины изагнал, землицу таёжную рвав, любви не ведав. Тогда поудивляемся, скажем, «ну, герой, герой, могешь еще, писька не отвалилась точь». Зачем рвём в тайгу, тайгу рвём, не понят, совсем не понят? В городе и тепло, и сухо, и выхлопом любимым вонят, и всяки там ресторы, кафе, асфальты, павы расфуфырены жоп надад землей , як можно выше задират, ягодами рясут, пись расшевеливат. Одна перед другой, як курицы пеструхи красуются. Зачем выдираешься из уюта и привычного очага, дел немолимых бесконечных, рупей зарабатываемых и вновь потраченных, привычного бесконечного круга бесконечной возни? А понятно, чтоб… или корни рода, где вьются, глубоко, глубоко червём точат, спать не дают, просят к матери прийти, поклониться, припасть. И рвём в тайгу, да в последний миг прозрения, что т затмевает чистый взгляд и хватаем поострей ножище, да хвать кусок се покруче и в град бежать, казать, якой я хлопец гарнуй. Бежать, так и не прозрев. Бежать, бежать. Иль не прав я, совсем потухли очи, согнулась спина под грузом дел и глупых мыслей. Всё так.
Рубилово зимника кончилось, вновь из ельника поднебесного темного, снегом припорошенного, вынырнул на брег говорливой Кёлды, в сосняк светлый. Сосны в охват стоят, иль недохват, руки сведёшь, и пальцами вокруг ствола не зацепишься. Обнимешь якую великаншу, и сердце охлынет, остынет от суеты. Лишь мысль пулькой свернет, эх, Сёма, Сёма, сейчас бы в санках, за папаней скользил. Да задорно повизгивал, на остановках привскакивал, летел ко мне, як молодой щенок, кубарем катился, че нить звонким голоском рассказывал, спрашивал. Иль мужикам подоспевшим сзади мудро излагал. Неспешно и толково. «Не там надо путь класть, сюда, и сюда меж ёлкам, да руль так держать, да присесть при повороте». От же от верстака лишь нос поднялся, и много чё сказать хочет и ведь, что-т ужо познал в жись. Ладно, в ту поездку один сгоняю. Скор вернусь. Не тужи, там с мамой да сестрёнкой. А то ж, с утра як расстроился, что и бур рыболовный забыл. Ни чё, в избе есть старенький, порыбалю ещё. Да и у Михаила тож с собой взят, наверн даст, коль чего.
Сосновые боры, что по вхолму раскинулись, меж болотцем Гнилова озерка и током Кёлды вьются, смотрятся, серебристой сказкой. Кой-где великаны колючи поскидывали, свой век без коры заканчивают, серыми стволами последние десятки годков отматываются, сушат косточки, стоят, накоплёный опыт миру оставляют, суки сухи к небу тянут, былу мощь показыват. Где-то повержены ураганами. Петлят вокруг них колея, корневища огибают. Не устояли противу ветру, силы недюженной, полегли. Молоды ж иголками искристыми встречают. И воздух до чего свеж и колюч, грудь аж рвёт распахивает, чешет внутрь, поит напитком жиси, глаза отдыхат на тонах не броских, скромных, гармонию плентущих. Серый, беловатый, темно-зелен, золотично-коричнев с блекноватостью. Он и последний подворотец. Крыша избы Саныча показалась, ладно, подъезжаю. Снежком запорошено, чисто.


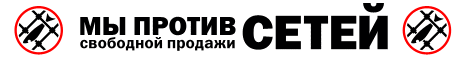



































































































































































































































 Как сам побывал
Как сам побывал 